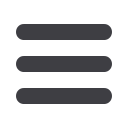

Бросаюсь к окнам столовой. Хватаясь за наличники, под
тягиваюсь вверх, смотрю сквозь стекло: там только пустые
столы.
Я — опять перед Лизук.
— Куда ты дела хлеб?!
— Не знаю... Сказали, что закрывают, и я вышла сразу же
после тебя. А хлеб-то ведь не наш, он остался на столе...
Чернота обволакивает все. И в середине этой черноты —
Лизук, та, которая потеряла хлеб.
Я опять бросаюсь вперед. Мои кулаки ударяются обо что-
то мягкое. Земля качается под ногами. Столовая то пропадает,
то, сверкая своими окнами, ползет ко мне. Черные рамы окон
стоят передо мной как ряды кладбищенских крестов. Отсту
паю назад. А кулаки мои, как цепы, молотят и молотят. Только
когда раздается тонкий жалобный крик, вся крепость в но
гах и руках гаснет вмиг, и я оседаю наземь. Старые бревна
столовой — цвета ржаного хлеба, от мха между бревнами
слышится запах ржаного хлеба. Пыльная земля — как дно
печки — горяча и пахуча. В этом мире, пахнущем хлебом, и
цвета хлеба, только лицо моей сестры красно от крови.
Мы хватаемся за руки и бежим. Шелестит теплый вечер.
Спускается солнце. На небе облака — как река с золотыми
берегами и золотой рябью по воде.
Для огромного поля две девочки — только две былинки,
даже слабый ветер сгибает нас, как бурьян. На ржи трепе
щет сияющий круг от заходящего солнца. Мне жаль его,
жаль, я ведь знаю, оно должно радовать сердце, но сейчас
оно кажется ненужным, как шюльгеме на шее голодной жен
щины.
... Кто-то спешит нам навстречу. Походка — мамина...
Видно, даже за целый день не иссякли мои слезы. Послед
ние капли, горячие до того, что от них могут появиться вол
дыри на теле, падают на мамин фартук.
— Ну что, поели хлеба? — спрашивает мама.
В груди у меня что-то хрипит, я хочу проглотить комок,
вставший поперек, но не могу ни проглотить, ни выплюнуть
его. «Нет, не удалось нам поесть хлеба», — хочу сказать я, но
вместо этого произношу совсем другое:
— Поели.
— Дочурка, а что ты вся в крови? — обнимает мама Лизук.
282














