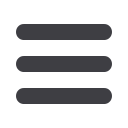
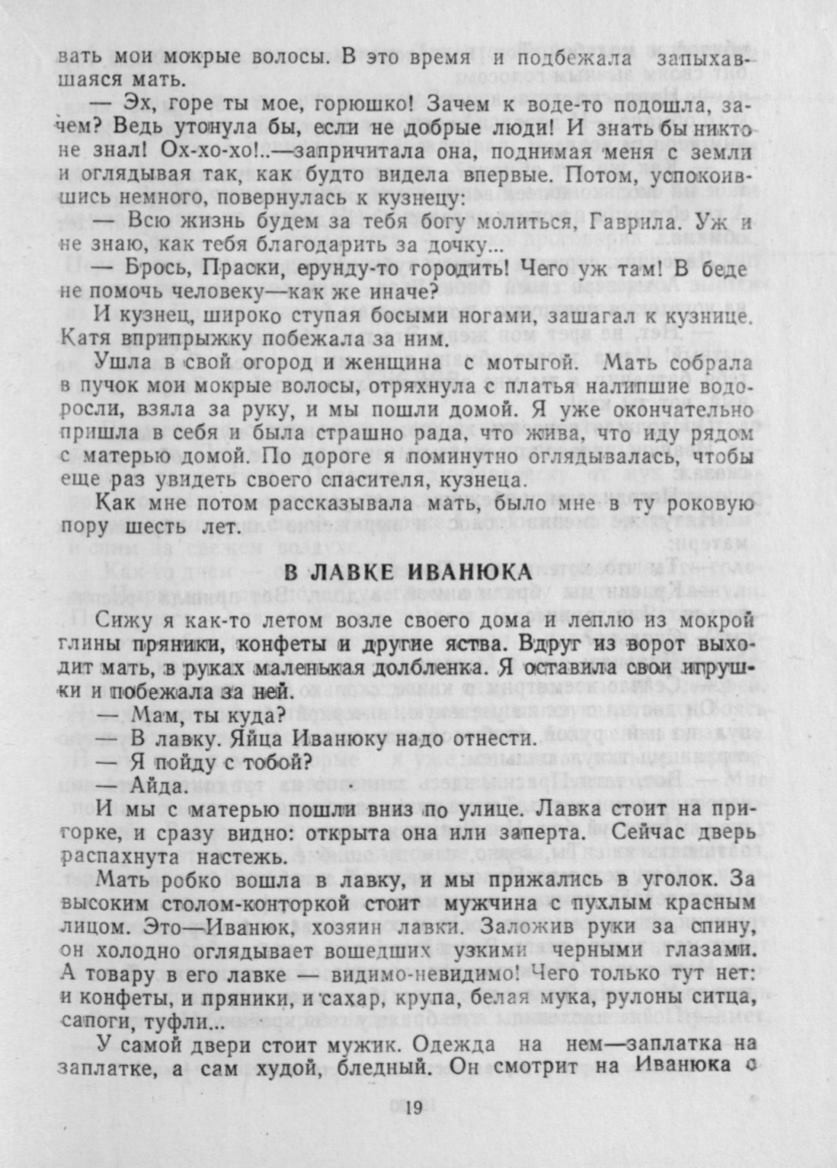
вать мои мокрые волосы. В это время и подбежала
запыхав-
шаяся мать.
— Эх, горе ты мое, горюшко! Зачем к воде-то подошла, за-
чем? Ведь утонула бы, если не добрые люди! И знать бы никто
не знал! Ох-хо-хо!..—запричитала она, поднимая меня с земли
и оглядывая так, как будто видела впервые. Потом, успокоив-
шись немного, повернулась к кузнецу:
— Всю жизнь будем за тебя богу молиться, Гаврила. Уж и
не знаю, как тебя благодарить за дочку...
— Брось, Праски, ерунду-то городить! Чего уж там! В беде
не помочь человеку—как же иначе?
И кузнец, широко ступая босыми ногами, зашагал к кузнице.
Катя вприпрыжку побежала за ним.
Ушла в свой огород и женщина с мотыгой. Мать собрала
в пучок мои мокрые волосы, отряхнула с платья налипшие водо-
росли, взяла за руку, и мы пошли домой. Я уже окончательно
пришла в себя и была страшно рада, что жива, что иду рядом
с матерью домой. По дороге я поминутно оглядывалась, чтобы
еще раз увидеть своего спасителя, кузнеца.
Как мне потом рассказывала мать, было мне в ту роковую
пору шесть лет.
В ЛАВКЕ ИВАНЮКА
Сижу
я
как-то летом возле своего дома и леплю из мокрой
глины
пряники, конфеты и другие яства. Вдруг из ворот выхо-
дит
мать, в руках маленькая долбленка.
Я
оставила свои игруш-
ки
и
побежала за ней.
— Мам, ты куда?
— В лавку. Яйца Иванюку надо отнести.
— Я пойду с тобой?
— Айда.
И мы с матерью пошли вниз по улице. Лавка стоит на при-
горке, и сразу видно: открыта она или заперта. Сейчас дверь
распахнута настежь.
Мать робко вошла в лавку, и мы прижались в уголок. За
высоким столом-конторкой стоит мужчина с пухлым красным
лицом. Это—Иванюк, хозяин лавки. Заложив руки за спину,
он холодно оглядывает вошедших узкими черными глазами.
А товару в его лавке — видимо-невидимо! Чего только тут нет:
и конфеты, и пряники, и сахар, крупа, белая мука, рулоны ситца,
сапоги, туфли...
У самой двери стоит мужик. Одежда на нем—заплатка на
заплатке, а сам худой, бледный. Он смотрит на Иванюка о
19














