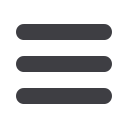
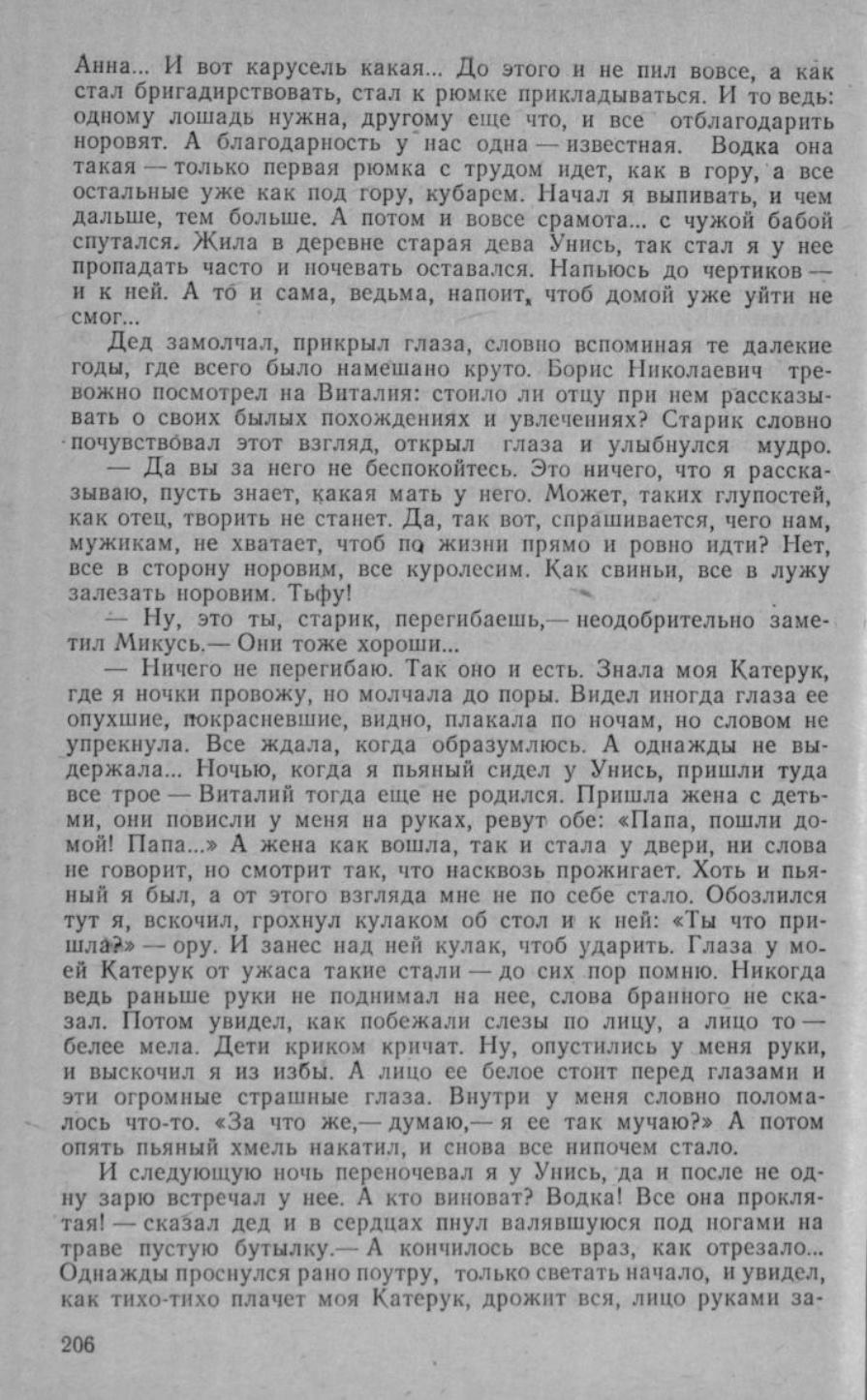
Анна... И вот карусель какая... До этого и не пил вовсе, а как
стал бригадирствовать, стал к рюмке прикладываться. И то ведь:
одному лошадь нужна, другому еще что, и все отблагодарить
норовят. А благодарность у нас одна — известная. Водка она
такая — только первая рюмка с трудом идет, как в гору, а все
остальные уже как под гору, кубарем. Начал я выпивать, и чем
дальше, тем больше. А потом и вовсе срамота... с чужой бабой
спутался. Жила в деревне старая дева Унись, так стал я у нее
пропадать часто и ночевать оставался. Напьюсь до чертиков —
и к ней. А то и сама, ведьма, напоит, чтоб домой уже уйти не
смог...
Дед замолчал, прикрыл глаза, словно вспоминая те далекие
годы, где всего было намешано круто. Борис Николаевич тре
вожно посмотрел на Виталия: стоило ли отцу при нем рассказы
вать о своих былых похождениях и увлечениях? Старик словно
почувствовал этот взгляд, открыл глаза и улыбнулся мудро.
— Да вы за него не беспокойтесь. Это ничего, что я расска
зываю, пусть знает, какая мать у него. Может, таких глупостей,
как отец, творить не станет. Да, так вот, спрашивается, чего нам,
мужикам, не хватает, чтоб по жизни прямо и ровно идти? Нет,
все в сторону норовим, все куролесим. Как свиньи, все в лужу
залезать норовим. Тьфу!
— Ну, это ты, старик, перегибаешь,— неодобрительно заме
тил Микусь.— Они тоже хороши...
— Ничего не перегибаю. Так оно и есть. Знала моя Катерук,
где я ночки провожу, но молчала до поры. Видел иногда глаза ее
опухшие, покрасневшие, видно, плакала по ночам, но словом не
упрекнула. Все ждала, когда образумлюсь. А однажды не вы
держала... Ночью, когда я пьяный сидел у Унись, пришли туда
все трое — Виталий тогда еще не родился. Пришла жена с деть
ми, они повисли у меня на руках, ревут обе: «Папа, пошли до
мой! Папа...» А жена как вошла, так и стала у двери, ни слова
не говорит, но смотрит так, что насквозь прожигает. Хоть и пья
ный я был, а от этого взгляда мне не по себе стало. Обозлился
тут я, вскочил, грохнул кулаком об стол и к ней: «Ты что при
шла?»— ору. И занес над ней кулак, чтоб ударить. Глаза у мо
ей Катерук от ужаса такие стцли — до сих пор помню. Никогда
ведь раньше руки не поднимал на нее, слова бранного не ска
зал. Потом увидел, как побежали слезы по лицу, а лицо то —
белее мела. Дети криком кричат. Ну, опустились у меня руки,
и выскочил я из избы. А лицо ее белое стоит перед глазами и
эти огромные страшные глаза. Внутри у меня словно полома
лось что-то. «За что же,— думаю,— я ее так мучаю?» А потом
опять пьяный хмель накатил, и снова все нипочем стало.
И следующую ночь переночевал я у Унись, да и после не од
ну зарю встречал у нее. А кто виноват? Водка! Все она прокля
тая! — сказал дед и в сердцах пнул валявшуюся под ногами на
траве пустую бутылку.— А кончилось все враз, как отрезало...
Однажды проснулся рано поутру, только светать начало, и увидел,
как тихо-тихо плачет моя Катерук, дрожит вся, лицо руками за
206














