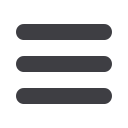

лом, кажется, даже забыли, где они сидят: все смотрят
на Василия Петровича, внимают каждому его слову.
-- Да вы пейте чай-то, остывает ведь... — вернул всех
к действительности голос хозяйки дома.
— Спасибо, спасибо, тахлача, и чаю попьем, и кар
тошки поедим с удовольствием, — и Василий Петрович
взялся за чашку. Остальные тоже последовали его при
меру. — Для нас чай с картошкой — родная еда. Вот тут
нам Клавди рассказала про учеников, что на фабрику их
нюю взяли. Говоришь, самому старшему из них тринад
цать? Вот-вот, так они и загубят неокрепший организм
на этой фабрике. К тому же им еще и не платят ни копей
ки, ну, по крайней мере, в течение двух-трех месяцев. И
ведь пришли они на фабрику не добровольно, а все из-за
той же нужды. Вот для них-то чай с картошкой — мечта
всей жизни. Хлеба вдоволь из них вряд ли кто ел, а ведь
работают так, что взрослому не по силам. Получают вполо
вину меньше. Хозяева же их заманивают именно зарплатой.
А ведь обман он только под покровом сладкий, сорви с
него покрывало — увидишь, что под ним. Так и обманы
ваются дети, и впрягаются в непосильную упряжку. Сколько
из них заболевают и умирают, не дожив до зрелого возра
ста, а оставшиеся жить, так и не увидев светлого дня,
старятся. Тяжела их судьба, ох тяжела...
Василий Петрович говорит и говорит, и с ним не по
споришь — в жизни все так и происходит. Безрадостные
дни застилают свет темной тенью, проникает она и в
душу, в сердце, превращает его из горячего в льдышку,
Конечно, человек не ноет и не жалуется ежечасно на свою
нелегкую долю, хватает у него терпенья достойно сно
сить все тяжести-горести. И даже привыкает к своему
бедственному положению. Хотя умом и глазами он ви
дит хорошее и завидует ему, однако это хорошее оказы
вается не про его честь, и он ожесточается душой, чер
ствеет сердцем. Ветхую одежонку не согреет солнце, го
лодного не насытит теплый воздух — вот и ходит он,
обозленный, готовый в любую минуту вступить в свару.
И он не один такой — вокруг него полным-полно таких
же бедолаг, мыкающих нужду. Вымотанный вконец куз
нец машет и машет молотом, забывая про отдых и вре
мя; ткачиха сидит за станом до тех пор, пока не упадет
на сотканный ею же холст; словом, всяк несет свою не
подъемную ношу, пока не надорвет пуп. Ни отдыха, ни
праздника нет у человека. Неужто ему так много надо?
Хлеб да новый день — вот и все, большего ему не надо,
393














